В предыдущих наших беседах, посвященных основам русской культуры, мы говорили о двух парадоксах нашего культурного развития – о противоречивом и парадоксальном проявлении в нем своеобразного максимализма и своеобразного минимализма.
Византийско-христианские корни и вдохновение русской культуры требовали от нее сразу, без подготовки, без длительного усвоения и приспособления некоего полного воплощения в жизнь христианского идеала, и эти же корни, возводя всё к религии, к евангельскому совершенству, странным образом способствовали развитию в русском сознании минимализма, равнодушия к прозаическим, повседневным земным делам.
Сегодня к этим двум парадоксальным факторам русского культурного развития мы прибавим еще третий, а именно – фактор утопизма.
Русское сознание много и часто грешило утопизмом, причем не в одном каком-то периоде своего развития, своей истории, а почти постоянно. Само это развитие в каком-то смысле можно представить как постоянную борьбу реализма с утопизмом, учета реальной обстановки, реальной действительности с неким постоянным развоплощением ума и воображения. Утопизм – это установка разума, обратная эмпиризму. Эмпирик исходит из трезвого учета и анализа фактов и вытекающих из них возможностей, для утописта же характерно, напротив, равнодушие, если не презрение, к учету фактов, реальной обстановки. Утопист стремится подчинить действительность идеалу, и главное для него – убеждение, что это можно осуществить.
Источником утопизма в русской истории, в развитии русской культуры приходится признать всё то же византийское вдохновение, ставшее для Руси единственной основой ее культуры. Элементы утопизма были уже у самого князя Владимира, первого строителя киево-христианской государственности.
Известен летописный рассказ о том, что греческим епископам приходилось уговаривать Владимира применять, в случаях необходимости, смертную казнь, которую он, став христианином, считал несовместимой со своей новой верой. И это очень характерный факт, особенно при сопоставлении его с некоторыми общими тенденциями раннего русского сознания.
Профессор Федотов, например, убедительно доказывал, что поразительная популярность двух первых канонизированных, то есть причисленных к лику святых, русских, а именно сыновей Владимира, князей Бориса и Глеба, объясняется почитанием народом их подвига непротивления злу. Борис и Глеб добровольно приняли страдания и смерть, видя в этой пассивности высшую меру подражания Самому Христу. Они могли бы защищаться или спастись бегством, но они этого не хотели, они предпочли уступить и пожертвовать своей жизнью.
И здесь важно именно то, что народное сознание в почитании этих святых приняло их подвиг как нормативный, так же как до этого народное сознание приняло и запомнило особое мягкосердечие Владимира, граничащее, казалось бы, с безрассудством.
Элемент утопизма, веры в идеальную «братскую любовь» можно усмотреть и в учреждении Ярославом Мудрым удельной системы, оказавшейся для государства такой гибельной. Возвышение Москвы и ее конечное политическое торжество было связано с отказом от утопизма; в этом, напротив, проявился трезвый реализм, подчас граничивший даже с цинизмом, но и в это время в русском самосознании утопические тенденции до конца не исчезли. Они, например, проявились в попытке утверждения идеологии Москвы – Третьего Рима, особенно в ее истоках, в монашеско-религиозном происхождении.
Государственной эта идеология не стала, но она, густо окрашенная в утопические тона, пронизанная утопизмом, влияла на умы того времени. Эта идеология провозглашала Московское царство призванным к осуществлению некоей последней, высшей правды на земле, так сказать, под занавес исторического процесса.
Для утопического образа мышления очень характерно, что провозглашаемый им идеал, как правило, не связывается с конкретной программой его осуществления, проведения в жизнь. Знаменитое тютчевское «В Россию можно только верить» означает, с этой точки зрения, своеобразную самодостаточность идеала и веры в него, словно они и не предполагают и не требуют никакого труда, напряжения в их практическом осуществлении.
В утопизме всегда есть элемент самолюбования, гордости, опять-таки конкретно ни на чем не основанной. Вера в «простой народ» и якобы хранимые этим народом последние, мудрейшие ответы на все вопросы жизни, готовность всю сложность жизни сводить к простым и абсолютным теориям, привычка очертя голову бросаться всем существом в любой, даже плохо продуманный абсолют, только бы он казался «абсолютом», – всё это плоды утопизма, слишком часто приводящего к прекраснодушию, к параличу воли, к самоутешению возвышенными, но предельно оторванными от жизни идеями и идеологиями.
Несомненным утопизмом была окрашена борьба в XVI веке между религиозно-политическими новаторами, вроде патриарха Никона, и религиозно-политическими консерваторами типа протопопа Аввакума и других вождей старообрядчества. При этом важно подчеркнуть, что утопизм был характерен для обоих лагерей. Если неистовство патриарха Никона и его последователей основывалось на вере в какое-то утопически совершенное греческое православие, то неистовство Аввакума и его единомышленников вызывалось верой в никогда не существовавшую в действительности утопически-идеальную «святую Русь».
Так постепенно создавалась привычка действовать, оценивать, мыслить в отрыве от действительности и иногда вовсе не считаться с нею, не считаться с реальностью.
Утопизм в русском сознании особенно усилился после Петровской революции. В каком-то смысле она поделила Россию на лагерь «реалистический» и лагерь «утопический», и чем дальше шло время, тем пропасть между двумя этими установками сознания делалась всё очевиднее и глубже. При этом неверно отожествлять, как это часто делают, реализм с государственно-бюрократическим аппаратом, а утопизм – с интеллигенцией, которую государственный аппарат якобы отделял от «реальности». В том-то, возможно, и трагедия русской культуры, русского сознания, что утопизм оказался присущим в значительной мере почти всем без исключения слоям сложного и многообразного русского общества.
Так, утопистом, по-своему, был Павел Первый, в устроении России по прусскому образцу видевший идеал государства; утопистом был и Александр Первый, стремившийся подчинить внешнюю политику России утопии Священного Союза, почти открыто противоречившей реальным интересам русского государства. Утопические тенденции нередко были присущи как раз самой власти тогда, когда она исходила не из реального учета интересов и возможностей страны, а из априорных утопических идеологических установок.
С особой силой сказался утопизм в диалектике русской культуры. В ней многое – об этом мы будем говорить в дальнейших беседах – определяется как бы утопическим взрывом против прозрачного реализма Пушкина, взрывом, укорененным в социальном, политическом, религиозном утопизме. Это и обусловило своеобразную настойчивость русской культуры, подверженность ее как поразительным взлетам, так и столь же поразительным падениям. Она словно всегда открыта для полной и безоговорочной переоценки всех ценностей под влиянием очередной утопии, очередной «абсолютной» идеологии.
Утопизм восстает именно против преемственности, против традиции: он хочет всегда всего или ничего и во имя своей истины готов без остатка сжечь всё прошлое. Он противоречит «форме», самому принципу «формы», ибо абсолют никогда в нее не укладывается, изнутри требует ее преодоления и разрушения. В этом смысле утопизм как фактор культуры – явление всегда антикультурное, даже когда носителями его оказываются самые высшие носители культуры. Так, Лев Толстой был одновременно и вершиной русской культуры, и заложенным внутри этой культуры взрывчатым веществом.
Утопизм характерен и для общественной русской мысли, и для русского политического сознания. Бердяев заметил в своей книге о русском коммунизме, что русскому сознанию свойственно либо искать идеальную форму общества, либо предаваться открытому цинизму. Вся история русской общественной мысли насквозь пронизана этим уклоном в утопизм в полном отрыве от действительности. Так, на протяжении всего XIX века никто не имел, пожалуй, такого резонанса, никто не был окружен таким культом, как Чернышевский. Вместе с тем Чернышевский был одним из самых ярких представителей почти полной слепоты в отношении действительности, почти патологического непонимания «возможностей» и «невозможностей».
Таким образом, утопизм в той или иной мере содержится почти во всех проявлениях русской культуры и русского общественного сознания, выражаясь в тяге к крайностям, в нежелании принять «середину», согласиться на необходимый компромисс. Это часто – даже брезгливое отталкивание от действительной жизни во имя несуществующей идеальной.
В тяге к утопии сказывается, конечно, нравственный максимализм, глубина, возвышенность, верность тем «звукам небес», которых в незабываемом лермонтовском стихотворении не могли заменить «скучные песни земли», но в ней же скрывается и страшная опасность. Эта опасность – в игнорировании реальности, в своего рода слепоте в оценке и понимании жизни, что, в свою очередь, часто ведет к неумению наладить, организовать повседневную жизнь и влечет за собой неисчислимые и ненужные страдания и жертвы. Всё это нужно помнить, стараясь понять основы русской культуры и сложный путь ее диалектического развития.
Западная культура началась с «азов», с трудного усилия усвоения латинской грамматики, а вместе с нею искусства связывать идеи с жизнью, проверять их действительностью. Русская культура началась с некоего духовного взлета. И если во всем лучшем и великом, созданном ею, она осталась взлету этому верной, то вместе с тем ей пришлось немало страдать от отсутствия прозаического, но твердого фундамента.
Поразительное «Слово о полкy Игореве» каким-то непостижимым образом создалось без какой-либо предварительной подготовки – и не имело больше продолжения во всей допетровской русской культуре. Так и величественное здание русской культуры XIX века часто, кажется, «ни к чему не обязывает» и не отражается в сознании, лишенном какой-то необходимой дисциплины. Это, очевидно, и есть плод утопизма в культуре, об основах которой мы продолжим разговор в следующих наших беседах
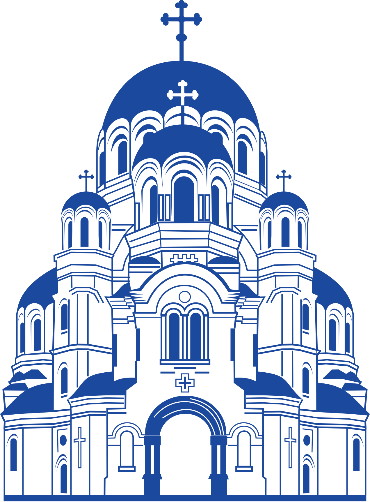










Комментарии (0)
Нет комментариев!
Комментариев еще нет, но вы можете быть первым.