Алексей Хижняк: Как архиепископ Пимен (Хмелевский) учил хоровому пению
Автор воспоминаний о церковно-певческой жизни города Камышина Волгоградской области Алексей Хижняк. В настоящее время он регент храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Волгограде. А в начале 80-х годов совсем молодым человеком пришел петь в Никольский храм Камышина, где познакомился с замечательным архиереем Русской Православной Церкви архиепископом Пименом (Хмелевским).
Как рассказывает о себе Алексей Алексеевич, верующим он тогда скорее не был, чем был. И тем не менее, когда его начали запугивать и требовать, чтоб он ушел из церкви, категорически отказался это сделать.
И хоть в первой половине 80-х годов в воздухе уже чувствовались перемены, но власть по-прежнему держала курс на уничтожение церкви. Например, секретарь обкома Гусев в соседней Саратовской области написал в газете, что певцы оперного театра поют в соборе и погрязли в религиозном дурмане. Через несколько дней все певцы из хора ушли.
Камышин в первой половине 80-х годов был по советским меркам процветающим городом. Работали предприятия текстильной, машиностроительной и строительной промышленности, швейные и мебельные фабрики, крупный хлопчатобумажный комбинат и завод «Ротор». В городе был театр, музыкальное училище. Алексей учился в этом музыкальном училище и пел в единственной в городе Никольской церкви на клиросе. О том, что молодой человек одурманен религиозной пропагандой стало известно властям.
— Вызвали меня в горком комсомола, пропесочили и начали угрожать. Я стоял в торце огромного стола, а они в три ряда сидели вдоль него. Они меня и с Иудой сравнивали, с кем только не сравнивали. Предлагали: давай мы тебя устроим в ресторан, если тебе надо работать. Семья была уже, жена… Я погорячился, вытащил билет и говорю: нате, ничего мне не надо. Я церковь не брошу. Это был примерно 1983 году. Лютая была еще власть, лютая…
А церковь для меня в первую очередь тогда была прекрасной музыкой. Я к вере хладен был. Клирос в храме располагался на балконе. И когда я сверху смотрел в алтарь на огонечки лампад, я всегда чувствовал, что все там, что мы для этого поем. Понимал, но глубоко не влезал. Язычник был конченный. Все пришло позже, когда постарше стал, когда много узнал, много перелопатил в музыке. Тогда уже пришло понимание, что пока не узнаешь о Боге, о Троице, ничего не создашь. Вообще ничего не создашь. Нечего сказать тогда будет просто. Ну, и беды пришли – стал задумываться, а когда стал задумываться, все встало на свои места.
Внутренние перемены произошло не без помощи архиепископа Пимена (Хмелевского). Он тогда возглавлял Саратовскую и Волгоградскую епархию. Встреч с Владыкой Пименом было всего две. Я могу их дословно пересказать. А вот не прямо через встречи, а косвенно он очень повлиял на меня.
У нас в Никольском храме Камышина вся нотная библиотека была из Саратова. Владыка Пимен присылал и ноты, и пластинки целыми ящиками. Делал он это через отца настоятеля, но все приходило на клирос. Пластинки мы слушали и переводили в скрипичный ключ. Очень много он рукописных нот присылал.
Это были удивительные ноты. В современных редакциях я таких нот не встречал. Помощь его была и в том, что он присылал нам эти очень хорошие ноты в двухстрочной партитуре. Это была гармонизация прекрасных авторов, таких как Смирнов, Соловьев. Они занимались знаменным распевом. Не сочиняли, как это делал даже Чайковский и другие знаменитые композиторы с их свободной манерой гармонического письма. Это были четыре голоса, и они вели себя по-другому, и по-другому раскрывали содержание мелодии. И этот аромат музыки, конечно, он запал мне в душу. Я стал мучительно думать: в чем же разница? Одно красивое. А это менее броское. Но от него мурашки. Оно настоящее, надмирное. В нем нет ни ахов, ни охов, ни криков, ни слез, ни ликования, но в этом задумчивом величии что-то неземное.
Я же был влюблен в свою профессию без памяти. Когда служба заканчивалась, я вообще не знал, чем мне заниматься. Что делать, чем жить? Смысла вообще не было никакого. Все мне кроме клироса было не интересно. И думалось, думалось…
Когда я переехал в Волгоград, у меня уже сформировалось, чем надо заниматься, что делать, чему учить певчих своих, хор свой, людей своих, о чем говорить. Это касалось богослужебного пения.
Так вот, на такое отношение сильно повлияли именно ноты, какие присылал нам из Саратова Владыка Пимен.
А разговоров с Владыкой Пименом было всего два. Была весна, еще шли Пасхальные торжества. Мы пели на Всенощной канон «Воскресения день…». Но перед тем, как готовить его к Пасхе, настоятель нам дал послушать пластинку, как поет этот канон государственный хор под управлением Владимира Минина. Это было потрясающе! У меня с тех времен, с тех моих двадцати с небольших лет этот хор звучит в ушах всегда. Все, что я делаю, я ориентируюсь на него. Это удивительное звучание. Есть много хороших хоров, но ни у одного, на мой взгляд, нет такой организации звука.
И вот мы пели в том темпе, какой был на пластинке. Высчитывали до доли секунды, вся динамика была взята оттуда, все кульминации, все акценты. Все было взято оттуда.
Владыка меня похвалил, естественно. Но он всех, наверно, хвалил. Похвалил хор, что он такой большой, хороший, подготовленный. Тут же отец Иоанн сидит. А я же волнуюсь, сказал, что мы слушали пластинку.
А он говорит «У меня не замечание, а пожелание. На пластинке это одно, а вот на Богослужении надо чуть поживее все это сделать». Ну и привел пример различных хоров.
Он столько глубоких вещей говорил! Я, честно говоря, стоял, трясся как осиновый лист. Это был первый архипастырь в моей жизни, который разговаривал со мной один на один. Говорил о голосах наших, поблагодарил за организацию, за службу. И это, конечно, сыграло свою роль. Это меня очень сильно укрепило. Я поверил в себя.
А второй разговор c архиепископом Пименом был уже после Литургии, тоже в Камышине где-то через год. Всегда после архиерейской службы накрывался праздничный стол, и все проходило очень торжественно. Пропели, сели. Какое-то время прошло, покушали все…
Раньше перед службой я нес в алтарь тетрадь с репертуаром, который утверждался настоятелем. Песнопения к архиерейской службе надо было выучить без сучка, без задоринки. Там были очень сложные вещи. В тот раз мы пели «Единородный Сыне…» Гречанинова. Ну, спели, и спели. Хорошо спели. Прошло время, сидим, едим. Вкусно. Он говорит: «Сегодня за богослужением «Единородный сыне» Гречанинова звучал точно так же, как на пластинке, даже лучше». Ведь запомнил же наш предыдущий разговор. Я, конечно, сразу понял, что он опять меня поддерживает…
Он много говорил о музыке. Он был очень музыкально сведущий человек. У него были знания минимум музыкального критика. Он так разбирался во всем, знал сотни концертов! Концерты это такая музыкальная форма, которая раньше в старое время исполнялась перед причастием. Конечно, все это к нам пришло с Запада, но так у нас и осталось. И столько здесь наработано всего! В то время это было очень модно. Тогда и Литургия по два с половиной часа шла. «Единородный Сыне» исполнялся 10 минут. «Благослови, душе моя, Господа» 8 минут. Так и набегало.
А перед причастием исполняли сочинения Чайковского, Бортнянского, Глинки, даже Моцарта. Чего только не было. Чего только не пели. А люди слушали. Ведь тогда ни в концертных залах, ни по радио духовной музыки услышать было нельзя. Единственный местом была церковь.
Когда настало время тяжелое, конец восьмидесятых – начало девяностых годов, все было по карточкам, ничего не достать, люди приносили мешочки. А в них шоколадки, апельсинчики. И записочка: «Алексей Алексеевич, спойте, пожалуйста, Бортнянского, седьмой номер».
… Потом уже пришло: Господи, думаю, такое тяжелое время было, а люди ходили, верили, исповедовали это все, и не запугать их было ничем.
Подготовила Эльвира Меженная
(292)
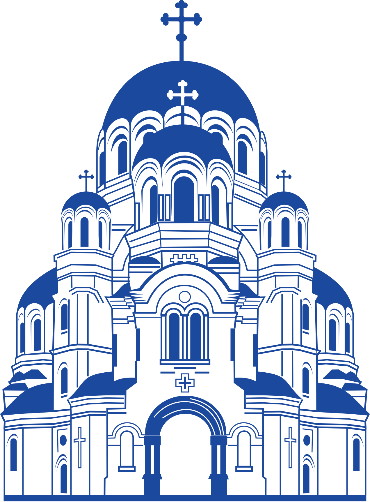



![xPs89B1ybLM[1]](http://volgeparhia.ru/files/2019/11/xPs89B1ybLM1.jpg)
![EdHSTCmxTeU[1]](http://volgeparhia.ru/files/2019/11/EdHSTCmxTeU1.jpg)







Комментарии (0)
Нет комментариев!
Комментариев еще нет, но вы можете быть первым.